БАХ И ЭСТЕТИКА(из книги Швейцера "И.С. Бах")
18-05-2005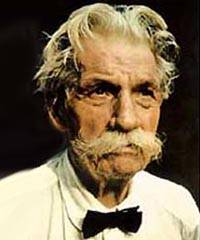
Мы ведем споры о чистой музыке, звукописи, программной музыке и музыкальном языке как об очень актуальных для нас вопросах и полагаем, что лишь историкам интересно обнаружить тенденции к звуковой живописи, к программной музыке, к отчетливо выраженному музыкальному “повествованию” в итальянском, немецком и французском искусстве XVII и XVIII веков. Как ни примитивно в отношении средств и возможностей выразительности то, что создали два или три добаховских поколения в области изобразительной музыки, оно обнаруживает те же самые искания, что и наиболее современная и рафинированная программная музыка Листа или Рихарда Штрауса.
Впрочем, старое искусство не было столь уж примитивным. Фробергера, Кунау и авторов итальянских и французских характерных пьес можно еще считать представителями наивно-“повествовательной музыки — они переходили границы чистой музыки, не сознавая всей важности совершаемого дела. Но мастера гамбургского театра знали, чего хотели. Для них музыка была изображением поступков, картин, идей. Они верили, что все можно изобразить в звуках. Маттесон дает даже рецепты для четкого и верного выражения чувств в музыке.
В одной из кантат 1744 года на восьмой день после Троицы Телеман изображает ложных пророков в овечьих шкурах модуляцией по квинтовому кругу через все двенадцать мажорных тональностей (JakobAdlung. Anleitung zur musikalischen Gelahrtheit. Zweite Auflage, 1783, S. 395). Это уже скорее метафизическая символика. Но вместе с тем в партитурах старых мастеров встречаются нередко страницы, внушающие нам уважение к намерениям их авторов и к их умению.
Музыка, на которой Бах вырос, расцвет которой пережил и завершителем которой явился, в отличие от всякой другой называла себя “музыкой аффектов”, тем самым признавая своей главной задачей характерное и реалистическое изображение. Во всех учебниках много говорится об этом. Тем не менее наша музыкальная эстетика недостаточно глубоко изучает сущность музыки того времени, роль и значение в ней программного начала; подобные же изобразительные моменты рассматриваются как преходящие патологические извращения чистой музыки.
Бах целиком принадлежал современной ему “музыке аффектов”. Он подтвердил это своим Каприччио — программной сонатой на отъезд брата. Вместо того чтобы спросить себя, не проявился ли тот же дух и в более поздних произведениях, эту пьесу рассматривают как любопытную юношескую причуду, которой он отдал дань своему времени и которую можно простить ради прелюдий и фуг, написанных во имя чистой музыки. При этом не попытались даже исследовать его музыку, посмотреть, как соединяется она с поэзией в хоралах, кантатах и “Страстях”, не заметны ли и в ней изобразительные тенденции современного ему искусства.
Мозевиус, единственный из музыкальных эстетиков, постарался понять баховскую музыку как искусство характерного звукового изображения1. Однако он не имел последователей. Его работа “Иоганн Себастьян Бах в своих церковных кантатах” (1845), хотя она время от времени и цитируется, не оказала ни малейшего влияния на дальнейшее изучение творчества Баха.
Со второй половины XIX столетия, когда разгорелась борьба за современную музыку, к Баху уже не подходили так непосредственно, как это делал Мозевиус. Многое, конечно, в этих вещах казалось странным. Когда встречались явные приемы звукописи, их нельзя было отрицать, например в хорале Durch Adams Fall 1st ganz verderbt” (V, № 13), где грехопадение Адама передано падающими вниз септимами в басу, или в арии из кантаты “Геркулес на распутье”, где музыка живописует змей, упоминаемых в тексте. Известны и другие примеры. Но как только встречался подобный случай, сразу же считали себя обязанными указать на его незначительность, дабы не пострадала слава Баха как классического композитора и не заподозрили, что он заодно с теми, кто низводит звуковое искусство до уровня изобразительной музыки.
Именно Филипп Шпитта тщательно заботился о том, чтобы кто-либо, соблазненный слишком характерной фигурой, не усомнился хотя бы на мгновение в принадлежности Баха к чистому звуковому искусству и не сошел с пути “правильного понимания его музыки”.
Разбирая кантаты, в наиболее каверзных случаях Шпитта приводил следующие аргументы в защиту музыкального человечества. “Сколь охотно Бах ни пользовался живописными элементами, — говорится по этому поводу в одном месте, — он прибегал к ним не из принципиального убеждения в необходимости музыкальной пластики. Живописные элементы у него — только шутки, возникшие в результате мимолетного побуждения; их наличие или отсутствие не изменяет ни ценности музыкального произведения в его сущности, ни его понимания. Как только встречаем у Баха какую-либо необычно острую мелодическую линию, странный гармонический оборот и характерное или выразительное слово, совпадающее с этим музыкальным образом, мы сразу же стараемся найти между ними более глубокую внутреннюю связь, чем это мог иметь в виду сам композитор”1 1 (Шпитта II, с. 406).
Подобные рассуждения типичны для тенденций, проводимых Шпит-той. Его обычно столь чудесные и глубоко проницательные анализы теряют свою силу, как только нужно найти внутреннюю связь между поэтической мыслью и ее музыкальным выражением у Баха. Он не пытается изучать бросающиеся в глаза примеры звуковой живописи, дабы, исходя из них, исследовать и другие характерные темы и обороты: не вдохновлены ли и они в известной мере образами и мыслями текста? Не обусловлены ли “настроения” у Баха вполне конкретными музыкальными идеями? Шпитта не желает изучать баховскую музыку в указанном направлении. Он не считает возможным, чтобы в этой музыке, как в ясной водяной зыби, живо отражался текст. Она не должна быть слишком характерной. Поэтому Шпитта считает в известной мере случайным совпадение необычайно выразительных тем или оборотов с “характерными и выразительными словами” и предостерегает от поисков “более глубокой и внутренней связи между текстом и музыкой, чем это мог иметь в виду сам композитор”.
Чтобы музыка Баха не показалась излишне конкретной, наиболее чудесное в ней объясняют своего рода случайностью. Это напоминает известного нидерландского философа Гейлинкса, который из страха перед философским материализмом отрицал влияние представления и воли на движение частей человеческого тела и считал, что Бог отрегулировал и тело и душу как две пары абсолютно одинаковых часов, чтобы всегда было полное соответствие между телесной и душевной жизнью. Следовательно, то, что при внешнем способе рассмотрения объясняется как непосредственная связь, в действительности является только установленным от вечности временным совпадением движения, мыслимого в душе, и движения, осуществленного телом.
Так и Шпитта, из страха перед музыкальным материализмом, издал несколько повелений о сущности истинной музыки и запретил эмпирические поиски связи между поэзией и музыкой у Баха. Сказав: “La question ne sera pas posee” (“He следует задавать этого вопроса”), он хотел бы закрыть рот всем, кто интересуется не только пониманием баховских произведений, но и такой важной для познания самой сущности музыкального искусства проблемой, как отношение лейпцигского кантора к использованным им текстам.
Взгляд, высказанный Шпиттой на музыку Баха, отчасти понятен, так как архитектоническое и контрапунктическое совершенство баховских произведений дает глубокое удовлетворение чувству, способному воспринимать эти чисто музыкальные особенности его творений; поэтому все другое, что в них еще можно найти, кажется чем-то второстепенным и незначительным. У Шпитты был к тому же инстинктивный страх: он боялся, чтобы Баха не использовали тенденциозно для защиты запрещенной им и его приверженцами современной изобразительной музыки. Отчасти же им руководило и справедливое отвращение к поверхностной модернизации старинной музыки вместо основательного ее изучения.
Таким образом, в то время, когда вели спор о Вагнере и Берлиозе, мир год за годом получал баховские кантаты, и никто не подозревал, какие сокровища драматичной и живописной музыки таятся в этих больших коричневых томах, какие перспективы открывают они для разработки учения о сущности музыки. И сейчас еще можно упрекнуть наших эстетиков, даже лучших среди них, что двести кантат Баха и органные хоралы для них, в сущности не существуют, хотя подчас ими приводятся оттуда отдельные примеры. Своеобразная жизненность и живописность этих творений не оказала никакого влияния на теории о характере музыкального искусства, которые ныне создаются и подвергаются обсуждению.
Казалось бы, для эстетики нет ничего более своевременного, как ухватиться за эти вновь открытые творения и изучить на них основную проблему всей музыки — вопрос о сущности тематического изобретения. Соблазн был действительно велик, ибо стоит только перелистать пять или шесть томов кантат, чтобы растеряться от повторяющихся неожиданностей, внутренне родственных мотивов, вариантов той же самой темы, необъяснимых причуд — все это в таких размерах, как ни в какой другой музыке. Какую загадку задают нам одни только темы “Страстей по Матфею”! Вспомним оживленно-веселую музыку в соль-мажорной арии сокрушенного раскаянием Иуды “Gebt mir meinen Jesum wieder”; вспомним свирепое двухголосное флейтовое сопровождение в басовом ариозо “Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen sein”, или кажущуюся бессмысленной с чисто музыкальной точки зрения аморфность темы арии “Konnen Tranen meiner Wangen nichts erlangen”, или любопытное музыкальное сродство некоторых ариозо со следующими за ними ариями, короче — именно то, что тем больше привлекает внимание музыканта в этом сочинении, чем чаще он к нему обращается. От этого испытываешь даже какое-то неприятное чувство, теряешься в догадках, как исполнять подобную музыку, ибо не знаешь, что она' обозначает, и только под конец начинаешь предчувствовать, что музыка определяется здесь не сама собою, а другой, чуждой ей, мощной силой, не имеющей ничего общего с чисто музыкальными законами построения.
Но эстетика, вместо того чтобы помочь наконец практическому искусству, обошла почти полным молчанием все странные вопросы, которые задают нам мотивы “Страстей”, кантат и хоральных прелюдий: она и не предполагает, что этот классический мастер уже владел музыкальным языком, основанным на конкретном выражении определенных мыслей.
В то же самое время музыканты, посвятившие себя исполнению кантат, предчувствовали, где искать ключ к его музыке. Непрерывно экспериментируя, они пришли к удивительным откровениям. Однако они не обобщали свои наблюдения и высказывались намеками и преимущественно в узкой среде специалистов, ибо заинтересованы были лишь в одном: чтобы эти произведения сами заговорили благодаря правильному исполнению. Так была создана музыкальная эстетика, в которой Бах отсутствует. Если бы мы просто сосчитали, сколько раз упоминается его имя в сочинениях о сущности музыкального искусства, то подобная статистика дала бы малоутешительные результаты. Даже в столь фундаментальном труде, как “Les rapports de la musique et de la poesie” Комбарье (Combarieus), Бах не играет почти никакой роли ( Paris, Alcan. 1894).
Француза еще как-то можно оправдать: может быть, он недостаточно владеет немецким, чтобы исследовать Баха по его кантатам. Но немецкие эстетики почти столь же мало занимаются творчеством кантора церкви Св. Фомы.
Дело не только в том, что Баха действительно еще мало знают, но в самом характере наших работ о сущности музыкального искусства. Наши эстетики исходят не из произведений искусства; напротив, они обычно кончают там, где начинается музыка. Шопенгауэру, Лотце и Гельмгольцу в их трудах отводится значительно больше места, чем Баху, Моцарту, Шуберту, Бетховену, Берлиозу и Вагнеру. Эстетические работы по вопросам живописи в несравненно большей степени говорят о самих художественных произведениях, нежели аналогичные работы, посвященные музыке.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что музыкальная эстетика не в состоянии ответить на вопросы, которые задает ей сама музыка. Только под конец, благополучно построив систему определений и теорий, заимствованных из музыкальной физиологии, в виде приложения она обращается к проблемам собственно музыкального искусства — к звуковой живописи, изобразительной музыке, программной музыке, к взаимодействию других искусств с музыкой.
Трудно представить себе более живую, тесную связь музыки с текстом, чем в произведениях Баха ( См. интересную работу: Arnold Schering. Bachs Textbehandlung (Leipzig, Kahnt 1900. S. 38); в ней впервые столь тонко и наглядно показано поэтическое начало в музыке Баха. См. также монументальный труд: Andre Pirro. L'Esthetique de J. S. Bach (Paris, Fischbacher, 1907. S. 508), в котором наблюдения, изложенные в настоящей книге, убедительно обоснованы и дополнены).
Это бросается в глаза даже при поверхностном знакомстве с ними: обнаруживается не только большее или меньшее соответствие между фразой словесной и музыкальной — их структура тождественна. Сравните в данном отношении Баха с Генделем! У последнего музыкальный период, соответствующий длинному словесному предложению, состоит из отдельных отрывков, мастерски соединенных; при таком методе отчасти нарушается естественная форма словесного предложения, которая претерпевает изменения в результате музыкального развития. Поэтому между ритмом музыки и текста всегда сохраняется некоторый антагонизм. Кажется даже, что если тему Генделя освободить от текста, то мелодии музыкальная и речевая, разделившись, окажутся разной длины. Напротив, у Баха обе эти мелодии неотделимы друг от друга, так как его музыкальная фраза — та же словесная, только воплощенная в звуках. Его музыка именно не мелодическая, но декламационная. О Бахе можно сказать то же, что Гвидо Адлер утверждал о Вагнере: в нем возродилась великая музыка Ренессанса.
Если музыкальные фразы у Баха кажутся нам совершенными и в мелодическом отношении, то объясняется это его высокоразвитым, отточенным чувством формы. Он мыслил декламационно и все же писал мелодически, иначе он не мог писать. Баховская вокальная тема — это декламационно оформленное построение, которое будто случайно, благодаря постоянно повторяющемуся чуду, облекается в мелодическую форму, что в равной мере относится к речитативу, ариозо, арии или хору.
При этом его тексты сами по себе абсолютно непригодны для музыки. Библейский стих не образует собою не только музыкального, но даже речевого периода, ибо это не подлинник, а прозаический перевод. Со свободными текстами, которые ему поставляли либреттисты, дело обстояло не лучше. И там не приходится говорить о внутреннем единстве: их тексты представляют собой нагромождение стихотворных строк, навеянных чтением Библии и песенных сборников. Когда же снова прочитываешь этот текст, озвученный баховской музыкой, вдруг обнаруживаешь в нем замкнутые музыкальные периоды.
Декламационное единство звука и слова у лейпцигского мастера то же, что и у Вагнера. Но у Вагнера это единство вполне естественно, ибо само словесное предложение у него задумано музыкально и для его “озвучивания”, если можно так выразиться, следовало лишь добавить интервалы. У Баха же это согласие звука и слова представляет волнующее зрелище: при звуках музыки словесное предложение, как бы движимое высшей жизненной силой, сбрасывает с себя одеяние пошлости, чтобы явиться в своем подлинном виде.
Так как это чудо все время повторяется, то в кантатах и “Страстях” его принимают как нечто обычное и само собой разумеющееся. Но затем, когда глубже проникаешь в Баха, все более поражаешься его мастерству; так бывает, когда мыслящий человек, наблюдая повседневные явления природы, воспринимает их как величайшие чудеса.
Кто раз внимательно прослушал какой-либо библейский стих в музыкальной интерпретации Баха, тот уже не может представить себе этот стих ни в каком другом ритме. Тот, кто знает “Страсти по Матфею”, уже не может читать слова, сказанные на Тайной вечере, не придавая им, сознательно или бессознательно, тех акцентов и той длительности слогов, которую он слышал в баховской декламации. Кто знает кантату “Nun komm der Heiden Heiland” (№ 61), тот уже не может вспоминать слова из “Откровения Иоанна” — “Siehe! Ich stehe vor der Tiir und klopfe an”' 1 (Откровение святого Иоанна Богослова 3, 20: “Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною”). — иначе, как в баховской фразировке. Если он и позабыл интервалы, то все же, прослушав несколько раз этот речитатив, он воспринимает его музыкальное строение как естественное выражение словесного предложения и уже не в состоянии освободиться от этого впечатления.
Могут возразить, что таково воздействие всякой музыки, если текст хорошо озвучен, но это неверно. Так непосредственно и устойчиво музыкальная интонация запоминается только у Баха и Вагнера; даже у Шуберта этого нет. Но замечательно, что у Баха запоминается преимущественно декламация — длительность слогов и ударения, а не интервалы. Правда, темы Баха столь характерны и оригинальны по своим интервалам, что и мелодии сами собой прочно запечатлеваются в памяти.
Один из наиболее выдающихся примеров его декламации представляет вступительный речитатив кантаты “Gleich wie der Regen und Schneevom Himmel fallt” (№ 18)' (Исайя55, Ю и 11: “Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово Мое, которое исходит из уст моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его”).
Он написан в характере ариозо. Стихотворные строки, одинаково построенные в еврейском оригинале Библии, но недостаточно связанные между собою в немецком переводе, скрепляются музыкой в единый большой период. Совершенство музыкальной композиции словно чудом уничтожает неуклюжесть языка; кажется, что поэтический текст веками ждал своей музыки, чтобы, наконец, раскрыться с захватывающей пластичностью.
И тогда, когда Бах пишет арию, его музыка также чисто декламаци-онна. Если прочесть текст первой арии кантаты “Selig ist der Mann” ( 2 Соборное послание святого апостола Иакова 1, 12: “Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни”) , соблюдая только долготу слогов и акценты, указанные нотами, стоящими над словами, не обращая внимания на интервалы мелодии, то станет ясным, что баховский звуковой язык рождается непосредственно из декламации.
Бах не связывает себя рифмой и размером, но стремится передать внутреннюю форму предложения. Его музыкальный период не сообразуется с рифмой и никогда не подчиняется ей. Прочтем текст арии из “Страстей по Матфею”:
Охотно готов я себя успокоить,
Крест и чашу принять,
Выпью (чашу) я ведь за Спасителем вслед .
( Чтобы можно было проследить связь слов и их значения с мелодией, дан подстрочный перевод (прим. Я. С. Друскина).
Кажется почти невозможным, чтобы музыка смогла преодолеть здесь рифму (bequemen — anzunehmen, см. пример 127). Тем не менее Баху это удается: он распределяет акценты и интервалы так, чтобы отвлечь внимание от рифмы, и при правильной интерпретации она уже не ощущается. Для этого надо первое “ich” (во втором такте) спеть так, как предписано музыкой и как этого требует связь с предшествующим ариозо “Der Heiland fallt”.
Но Бах не может нести ответственности за исполнение нашими певцами, которые поют не его музыку, но стихотворные строки и рифмы.
Если просмотреть вокальные партии хора “Nun ist das Heil und die Kraft” ( Откровение святого Иоанна Богослова 12, 10: “Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братии наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь”), то увидим, что и в проведениях голосов фуги Бах, по сути, мыслит чисто декламационно.
То, что производит столь непосредственное воздействие, должно показаться естественным. Однако баховская манера музыкального воплощения текста нередко воспринимается как нечто противоестественное. Ритмика, структура, акценты, длительности слогов — все кажется сначала неправильным. Слог, на который в обычной речи падает главный акцент, очень часто помещается в тени слабой доли такта; наоборот, слово, не имеющее никакого значения, резко выделяется странным, необычным интервалом; там, где ожидается пауза, ее нет. Таким образом, взятая сама по себе, каждая деталь музыкального оформления представляется непонятной. Выбрав наудачу отдельные речитативы и арии, нетрудно было бы найти у Баха очевидные погрешности против естественной декламации. Если же исходить из предложения в целом и исполнять мелодию свободно, соблюдая, однако, все предписанные Бахом длительности нот, тогда это предложение благодаря некоторой акустической перспективе приобретает рельефность, о которой, анализируя детали, мы и не подозревали. Перед подобным искусством бессильно всякое объяснение. Общее впечатление основано на интуитивном сравнении и оценке деталей в их взаимодействии, и то, что сейчас воспринимается как результат, скрыто в музыке как цель! Конечно, нет более основательного способа разрушить воздействие баховской музыки, чем та ложная художественная свобода, к которой прибегают многие беспомощные певцы, пытаясь произвольным исполнением нот преодолеть необычные, странные места ( См.: Alfred Heuss. Bachs Rezitativbehandlung mit besonderer Berucksichtigung der Passionen. Bach — Jahrbuch 1904, S. 82 ff. Дискуссия по докладу Альфреда Хейса, особенно соображения Морица Вирта, дали много интересного, однако одновременно показали, как до сих пор мало изучена эта проблема).
Бах передает в звуках не только внешнюю оболочку, но и душу словесного предложения. Это обнаруживается в его хоральных гармонизациях. Великие мастера хорала — такие, как Эккард, Преториус и многие другие, — гармонизовали мелодию; Бах — слова. Для него хоральная мелодия сама по себе безлична. Она приобретает индивидуальность от текста: когда слова зазвучат, мелодия заговорит, передавая содержание фраз гармониями, присоединяющимися к мелодии.
Не кто иной, как Карл Мария фон Вебер, с полной решительностью утверждал, что хоралы из кантат и “Страстей” не являются чисто музыкальными по своей природе. Сын Баха Филипп Эммануил опубликовал их без текста, которым были снабжены мелодии этих хоралов. Он не понял поэтических замыслов своего отца и думал, что предлагает миру просто сборник примеров совершенного хорального сложения.
Когда в начале XIX столетия математически-эстетическая система гармонии аббата Фоглера вызвала всеобщее восхищение, его ученик Ве-бер почел себя обязанным доказать, что и в искусстве хорального сложения его учитель превосходит старого Баха, так как работает более систематично, чем лейпцигский кантор; в то же время он считал достойным удивления богатство гармоний в хоралах Баха, хотя тот и не знал системы Фоглера. Вебер сравнивает двенадцать баховских гармонизаций с соответствующими гармонизациями Фоглера и находит, что баховские уступают новым, так как многие странные гармонические последовательности в них необоснованны
Неверно было бы говорить, что Вебер не понял баховских хоралов, — его замечания верны. С точки зрения чистой музыки гармонизации Баха совершенно загадочны. Ибо он имеет в виду не последовательность звуков, образующих независимое эстетическое целое, но исходит из поэтического смысла слов. Как смело и далеко отходит Бах от естественных принципов музыкальной разработки, видно из гармонизации хорала “Soil's ja so sein, daB Straf und Pein” (на мелодию “Ach Gott und Herr”) из кантаты “Ich elender Mensch, wer wird mich erlosen” (№ 48). Этот хорал производит просто невыносимое впечатление, если слушать его как “чистую” музыку, потому что Бах хочет передать мучительное состояние греховного сознания, о чем говорится в тексте.
Сын Баха совершил ошибку, издав хоралы без принадлежащих к ним слов, и показал, что не понимал сущность искусства своего отца. Поэтому хоровой дирижер Людвиг Эрк (1807—1883) оказал величайшую услугу делу Баха, опубликовав их вместе с текстом ( Ludwig Erk. Johann Sebastian Bachs Choralgesange und geistliche Arien. Leipzig, Peters. Erster Teil 1850, zweiter Teil 1865. Это произведение все время переиздается. Недавно хоралы появились на французском языке в превосходном переводе Альбрехта Махо с восторженным предисловием Венсана д'Энди (Брейткопф и Гертель, 1905 и 1906).
Последовательно сравнивая обработки той же самой мелодии в издании Эрика, замечаем, как меняется ее характер в зависимости от поэтической гармонизации. Светлый, победный, мажорный мотив звучит в следующем хорале подавленно-скорбно; траурная мелодия преобразуется и предвещает победу. Какое величие приобретает мотив страданий в хорале "Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen", когда в "Страстях по Иоанну" он передает стих "Ach grosser Konig, gross zu allen Zeiten" (в нем. тексте я не могу изобразить все знаки). Непонятное с чисто музыкальной точки зрения движение восьмыми в басу изображает победное шествие. Можно сказать, что в баховских хоралах отображается каждая строка, каждое слово. Непонятное с чисто музыкальной точки зрения движение восьмыми в басу изображает победное шествие. Можно сказать, что в баховских хоралах отображается каждая строка, каждое слово.
Вагнер однажды заметил об одной из своих модуляций, что на первый взгляд она кажется неподготовленной и необоснованно смелой. Но на самом деле это не так: данная модуляция возникла из столкновения двух часто повторявшихся мотивов; для уха, уже знакомого с ними, такая почти экстравагантная гармония покажется вполне естественной. В своих хоралах Бах исходит из аналогичного принципа. Мелодия знакома, следовательно, допустима и наиболее смелая гармония, ибо мелодическое развитие хорала не обманет ожиданий слушателя.
Только тогда станет понятным поэтический смысл баховской хоральной музыки, когда хор поет не мелодию, а текст и в своей декламации будет выделять не мелодические акценты, но слова, которые Бах иногда даже слишком резко подчеркивает гармонией. Чем больше занимаешься этими хоралами, тем больше убеждаешься, что в них живет сдержанная страстность выражения, подобной которой не найти во всей музыкальной литературе.
Из баховских хоральных произведений для органа сохранились лишь немногие ( Каталог Брейткопфа 1764 года упоминает “Полный хоральный сборник вместе с положенным на ноты генерал-басом из 240 употребительных в Лейпциге мелодий Йог. Себ. Баха, стоимостью десять талеров”. Этот хоральный сборник утерян. Песенный сборник Шемелли от 1736 года содержит частично и баховские гармонизации. По-видимому, они заимствованы из лейпцигского сборника (Шпитта II, с. 588—594). Наряду с этим у нас есть еще несколько гармонизаций, дошедших в копиях баховских учеников. Они помещены в петерсовском издании хоральных прелюдий. См.: V, с. 39, 57, 102 № 1, 103 № 2, 106 и 107; VI, № 26. Помимо того, Б. XL, с. 60 и след., а также гармонизации хоральных партит (V, с. 60, 68 |76l)).
Но и того, что дошло до нас, достаточно, чтобы понять, как он работал. Когда арнштадтская консистория была им недовольна в связи с самовольным продлением отпуска, она воспользовалась случаем и вынесла Баху порицание за слишком темпераментное сопровождение хоралов. В протоколе предлагается “поставить ему на вид, что в хорале он играет много странных вариаций и вводит много чуждых тонов, чем приводит в смущение общину”.
Mы поймем эти обвинения, взглянув на гармонизацию хорала "In dulci Jubilo" (V, стр 103), задуманного как сопровождение общинного пения. Бах заполняет с помощью пассажей паузы между отдельными фразами мелодии - в этом не было еще ничего предосудительного, тогда так было принято. Но и там, где снова вступает мелодия, она теряется в движении гармоний. Правда, Бах мог позволить себе такую вольность, ибо хор вел за собою общинное пение.
В этом периоде “бури и натиска” уже дает о себе знать поэтическая тенденция. Если в рождественском хорале “Vom Himmel hoch, da komm ich her” (V, c. 106), сохранившемся благодаря Кребсу, пассажи обыгрывают мелодию, радостно пробегая вверх и вниз по ступеням гаммы, то это означает, что Бах изображает так ангелов на небе, о которых поет община. Для юношеских хоральных произведений характерно нагромождение полнозвучных аккордов без строгого соблюдения голосоведения.
Для периода зрелости показательна гармонизация хорала “Herr Gott, dich loben wir” (VI, с. 65—69)' ( “Те Deum laudamus”. В старых песенных книгах он называется гимном св. Амвросия и Августина), охватывающая все строфы текста. Гармонии ясные и создаются облигатными голосами, но в сравнении с современным хоральным сопровождением они необычно подвижны и перегружены проходящими нотами. При этом полностью выявляется поэтический замысел. Как только текст делается более характерным, это сразу же отражается в звуках. Обратим внимание на величавое движение четвертями во всех голосах с того момента, как появляются слова “Dein gottlich Macht und Herrlichkeit” (“Твое божественное всемогущество и слава”, с. 66, такт 8 и след.), а также на хроматический мотив скорби, вступающий со словами “Nun hilf uns, Herr” (“Ныне помоги нам”, с. 67, такт 19 и след.), где идет речь о страданиях и смерти Иисуса2 ( 2 “Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein, die mil deinem teuren Blut erloset sein” (“Ныне помоги нам, Господи, твоим слугам, искупленным твоей драгоценной кровью”)).
Строка “Hilf deinem Volk” (“Помоги твоему народу”, с. 67, такт 39 и след.) иллюстрируется ритмом, передающим в кантатах и в “Страстях” мирный покой, ибо в этой строке встречается слово “благословить”3 (' “Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ, und segne was dein Erbteil ist” (“Помоги твоему народу, Господи Иисусе Христе, и благослови твое достояние”)). Вслед затем вступает баховский мотив радости (с. 68, такт 6 и след.) — текст имеет в виду небесную славу4 (4 В тексте упоминается слово “вечность”, которое у Баха ассоциируется с небесной славой (прим. Я. С. Друскина). “Wart und pfleg ihr zu aller Zeit und heb sie hoch in Ewigkeit” (“Храни и береги их на все времена и вознеси их в вечность”)).
Позже (с. 69, такт 13 и след.) в трепетном хроматизме высказывается мучительно-страстная мольба “Zeig uns deine Barmherzigkeit”. В заключение при словах “Auf dich hoifen wir, lieber Herr” (“На тебя надеемся”, с. 69, такт 23 и след.) возвращается уже знакомый ритм мирного покоя. Тот, кто хоть немного посвящен в баховскую манеру выражения, найдет, что все детали в развитии текста переданы музыкой исключительно красноречиво.
Рассмотрение хоральной гармонизации в соответствии с текстом показывает, как тесно связаны у Баха слово и звук. Именно из хораль-ных прелюдий и кантат, в которых музыкальное изображение развивается самостоятельно, мы прежде всего узнаем, как много его музыка извлекает из поэзии.
Само собою разумеется, что настроение поэтического текста Бах передает во всех его тончайших оттенках. И для его искусства верно изречение Вагнера: музыка передает то, что слова не могут выразить, — поэтический замысел в его наиболее совершенной форме.
Понимание Бахом библейского слова не всегда совпадает с общепринятым и рождается из глубоко своеобразного чувства. Нас поражает его музыкальное толкование слов причастия на Тайной вечере в “Страстях по Матфею”. Никакого следа скорби. Музыка дышит покоем и величием; чем ближе к концу, тем величественнее движутся восьмые в басу. Бах видит, как Иисус с просветленным лицом подымается перед учениками и пророчествует о том дне, когда он снова будет пить с ними чашу в царстве Отца своего. Композитор освободился от традиционного понимания этой сцены и благодаря художественной интуиции почувствовал ее правильнее всех теологов.
Начало речитатива, предшествующего Тайной вечере, — “Aber am ersten Tage der suBen Brote” — удивительно просветленное, почти радостное; таков же хор учеников — “Wo willst du, das wir dir bereiten das Osterlamm zu essen”. Для Баха в этой части до слов Иисуса “Wahrlich ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten” (“Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня”) преобладает простодушно-праздничное настроение.
Слова одного из стражников Петру во второй части “Страстей по Матфею”: “Wahrlich! Du bist einer von denen, denn deine Sprache verrat dich” (“Точно, и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя”) — не выделяются, но передаются мимоходом в четырех тактах без какой-либо страстности. Просто стражникам надо было как-то провести время. И это тонко подмечено.
Так шаг за шагом обнаруживается глубоко продуманная характеристика чувств и ситуаций. При этом убеждаемся, что иногда Бах действительно необычайно преувеличивает напряженность чувств, передаваемых в тексте. Удовлетворение становится в его музыке ликующей радостью, скорбь — неистовым отчаянием. Правда, он сохраняет оттенки в этих преувеличениях — музыка изображает разные степени радости и скорби. Но все они переключаются в область высокопатетичного: чтобы передать чувство в звуках, он возвышает его.
В первом хоре кантаты “Ach, lieben Christen, seid getrost” (№ 114) Бах подчеркивает слово “getrost” (“утешьтесь”) с чувством, насыщенным такой неисчерпаемой радостью, что музыка далеко выходит за рамки текста. То же радостное волнение оживляет смирение, выражаемое в первом хоре кантаты “Was mein Gott will, das g'scheh allzeit” (№ 111).
Так же и в органных хоралах. В музыке хоральных прелюдий “Mit Fried und Freud fahr ich dahin” (V, № 41) и “Wer nur den lieben Gott lafit warten” (V, № 54) чувствуется не спокойное доверие, как стоит в тексте, но скорее оживленная радость.
Таким образом, главное для Баха — любой ценой передать музыкой характерное выражение. Прежде чем ограничить себя скромной целью — написать к тексту красивую музыку, он сделает все возможное и невозможное, дабы выявить скрытое в словах чувство, поддающееся музыкальному выражению после усиления заключенного в нем аффекта. Он мысленно преобразует свой текст, представляя его себе таким, каким он должен звучать в музыке. Отдельные слова — лишь слабые тени его музыкальных мыслей. Бах относится к своему тексту активно — он не вдохновляется им, но сам одухотворяет его. Музыка Баха просветляет содержание слов; без нее слова остались бы беспомощными и часто банальными.
Поэтому для того, кто изучает музыку лейпцигского кантора, почти не существует безвкусных баховских текстов. Его даже немного раздражают постоянные жалобы на поэзию кантат, ибо он слышит ее преображенной в музыке Баха, для которого стихотворные тексты давали только вспомогательные образы1 1 Конечно, из этого не следует, что не надо вносить улучшения в текст. Некоторые кантаты этого настойчиво требуют. Плохую услугу оказывает Баху тот, кто исполняет без изменения речитатив “О Sunder, trage mit Geduld” из кантаты №114: там содержится рассуждение о “греховной водянке” (“Stindenwas-sersucht”).
Переводы на иностранные языки должны быть вполне свободными и придерживаться только того, что Бах подчеркивает музыкой, то есть идеального текста. По этому принципу переведены на французский язык тексты кантат, изданных у Брейткопфа и Гертеля. Шедевром в этом роде является перевод кантаты “Sie werden aus Saba alle kommen”, осуществленный Гюставом Брэ).
Приходишь в ужас, читая банальный текст альтовой арии из кантаты № 114:
О смерть, меня ты больше не пугаешь,
Через тебя достигну я свободы,
Ведь надо ж мне однажды умереть.
Но в музыке слова эти наделяются страстным порывом — они говорят о блаженном ликовании освобожденной души, для которой скорбное слово “умер” звучит как что-то уже преодоленное. Заключительное замечание о том, что человек смертен, дало Баху повод преобразовать текст в поэму о смерти и просветлении.
Можно привести сотни подобных примеров. Создается впечатление, что композитор относится безразлично к словам и к пошлости текстов не потому только, что разделяет дурной вкус своего времени, — нет, он сознает, как мало останется от самих слов, когда он преобразует их силою своего поэтического вдохновения. С таким же сознанием своей силы он принимает и современную мелодическую итальянскую форму арии da capo: он чувствует, что его музыкальная декламация победоносно пробьется и через этот шаблон.
Существует коренное отличие в отношении Баха и Моцарта к плохому тексту. У обоих его забываешь из-за музыки, но по совершенно разным причинам. Моцарт красивой музыкой сознательно отвлекает внимание от текста. Бах углубляет его и придает ему форму, пока он в звуках не получит новое образное толкование.
Следует ли его музыка за всеми перипетиями поэтического текста? Передает ли Бах звуками переход от одной мысли к другой?
Он избегает этого. Правда, иногда музыка в его произведениях так тесно примыкает к словам, что строго следует за развитием мысли. Например, в кантате № 61 средняя часть “Des sich wundert alle Welt” благодаря оживленному движению отчетливо отделяется от остальных. Но во всех этих случаях имеется в виду не столько самостоятельная музыкальная передача живого движения мыслей в тексте, сколько подчеркивание отдельных резко выделяющихся предложений и слов.
Бах не следует строго за текстом во всех его перипетиях, как бы они ни были соблазнительны, но выражает какое-либо одно характерное чувство; слово, которое бросается ему в глаза, определяет настроение целого. Это чувство и характеризующее его слово он передает говорящим мотивом, который дополняет и поясняет основную мелодию. Причем он убежден, что в этом мотиве выразил смысл поэтического текста в целом. Будет ли это хоральная прелюдия из “Органной книжечки” или какой-нибудь большой хор из кантаты, — почти всегда видим одно и то же: мотив, появившийся уже в первом такте, проходит через все такты до последнего, как будто композитора совсем не трогает то, что в это время происходит в тексте.
Если оркестр овладел у него каким-либо безмерно радостным мотивом, он звучит и дальше, хотя бы в тексте эмоциональный тон уже изменился. Если встретится более характерное слово, то оно несколько выделяется благодаря соответствующим гармониям. В первом хоре кантаты № 115, так же как и в хоре “Wachet auf” из кантаты № 140, господствует стремительный, оживленный мотив, символизирующий “das Wachen” (“бдение”); следующее затем слово “beten” (“молиться”) не изменяет общего характера музыки, но все же отмечается волнующей модуляцией. И в хоральных фантазиях порою появляются, словно мелькающие тени, музыкальные характеристики отдельных слов.
Вообще Бах отмечает в своей музыке только совсем необычные эпизоды текста, ограничиваясь выражением основного чувства. Иногда оно состоит для него в контрасте, который он изображает в виде двух борющихся характерных мотивов. Классический пример этого дает вступительный хор кантаты “Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wind sich freuen” (“Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется”, № 103). Подобные тексты при любви Баха к острым контрастам осо-
бенно его привлекали. И даже тогда, когда противопоставление идей в тексте дано скорее случайно, мимоходом, он кладет этот контраст в основу музыкального развития.
В “Каприччио на отъезд возлюбленного брата” Бах обратился к программной музыке. Но это уже не наивная программная музыка какого-нибудь Кунау, пытавшегося рассказывать в музыке целые истории, — нет, это искусство, сознающее свои границы, отдающее себе отчет в том, что можно отчетливо изобразить в звуках; оно ограничивается сопоставлением отдельных пластических сцен, отказываясь от их полной музыкальной характеристики. Это ясное сознание возможного в музыке, о котором свидетельствует юношеский опыт, и заставило Баха искать совершенную выразительность совсем на другом пути. Его художественное величие проявилось в том, что в годы расцвета наивной и претенциозной программной музыки он в первых же своих творческих опытах преодолел подобные стремления и никогда не пытался сказать в музыке то, чего она не в состоянии передать в достаточной мере понятно звуками.
Наивная программная музыка — старая и новейшая — допускает ту же ошибку, что и библейская живопись: исходя из той предпосылки, что библейские истории известны до мельчайших подробностей, казалось, что возможно представить эти сцены, изобразив на холсте соответствующих людей и необходимые предметы; но ведь нельзя передать главное — само действие. Мужчина с ножом в руке; связанный юноша на обрубке дерева; голова овцы в кустах; бородатое лицо, выглядывающее из-за облаков, — все это должно было изображать жертвоприношение Исаака. Мужчина и женщина рядом с колодцем; позади — город; на дороге — двенадцать мужчин попарно на разных расстояниях друг от друга — это должно изображать рассказ об Иисусе и самаритянке. Предполагалось, что зритель воссоздает подлинное действие, мысленно заменяя одновременность сопоставления живой последовательностью. Однако только немногие библейские мотивы действительно “живописны”. Для их изображения требуется, чтобы событие сводилось к четкой ситуации, заключающей в себе все действие. Поэтому большинство библейских живописцев, предполагая знакомство с содержанием, писали не картины, а иллюстрации, ничего общего не имевшие с настоящей живописью и преступавшие ее границу, подобно тому как описательная программная музыка выходила за пределы подлинного искусства.
Но Бах не соблазнился всеобщим распространением хоралов и библейских строф и не стал изображать в своей музыке все подробности и отдельные эпизоды текста. Он остается в пределах музыкальной выразительности там, где другой композитор, следуя за словами, дал бы подробнейшую звуковую иллюстрацию.
Следовательно, Бах пренебрегает передачей текста в его движении и развитии. Он изображает идею в статическом состоянии, но не развивает ее в становлении и изменении. Правда, он подчеркивает характерные детали, выявляет контрасты, дает мощное нарастание, но напрасно мы будем искать у него переживание идеи, ее борьбу, отчаяние, умиротворение — все то, о чем говорят бетховенские произведения и что хочет выразить послебетховенское искусство. Однако из этого не следует, что баховское искусство выражает чувство менее совершенно, чем бетховенское. Речь идет о качественно другом совершенстве. Чувство, которое Бах хочет выразить, передается его звуками так потрясающе и мощно, как вряд ли у кого другого. Отдельные подробности и оттенки чувства он характеризует исключительно своеобразно.
Поэтому музыка Баха, как и музыка Вагнера, — подлинная и глубочайшая музыка чувства, хотя они идут абсолютно различными путями. Оба стремятся к воплощению в музыке поэтических мыслей; оба отвергают программную музыку, то есть всякую наивную передачу поэтического текста; оба остаются в пределах реальной возможности музыкальной выразительности. Но они отличаются тем, что Бах изображает идею статически, в ее бытии, как она есть сама по себе, Вагнер — в ее становлении и жизни. Нет искусства, к которому вагнеровское определение сущности музыки подходило бы менее, нежели к баховскому. По Вагнеру, модуляции “необходимы” постольку, поскольку соответствуют поэтическому замыслу и эмоциональному состоянию, которое может быть выражено только музыкально. У Баха не так: его модуляции обычно чисто музыкальной природы. И они воспринимаются как “необходимые”, но в другом смысле: они должны появиться в музыкальном саморазвитии темы, так как заложены в ней с самого начала. В этом отношении правы те критики, которые, возражая против хорошего и дурного модернизирования Баха, называют его искусство “чистой музыкой”. Этим они указывают, хотя и неясно, на то, что Бах, в отличие от Бетховена и Вагнера, не передает эмоциональное содержание в виде драматического действия. Понимание этого различия имеет решающее значение для исполнения баховских произведений. Из этого ясно, как ошибочно переносить на Баха динамику, обычную для Бетховена и Вагнера: у них она подчеркивает изменения в гармонии, которые одновременно являются и поэтическими, чего нет у Баха.
Бетховен и Вагнер — поэты в музыке, Бах — живописец. И он драматург, но как живописец. Он не изображает последовательного действия, а выхватывает какой-либо острый момент, в котором для него заключено все действие, и передает его в музыке. Поэтому опера так мало привлекала его. С молодости он знал гамбургский театр; был близок с видными представителями дрезденской музыкальной жизни. И все же не написал ни одной оперы: причина этому не какие-либо внешние обстоятельства; в противоположность Вагнеру он не представлял себе соединения музыки и действия в одном целом. Музыкальная драма для него — последовательность драматических картин; он осуществил ее в своих “Страстях” и кантатах.
Продолжение следует














